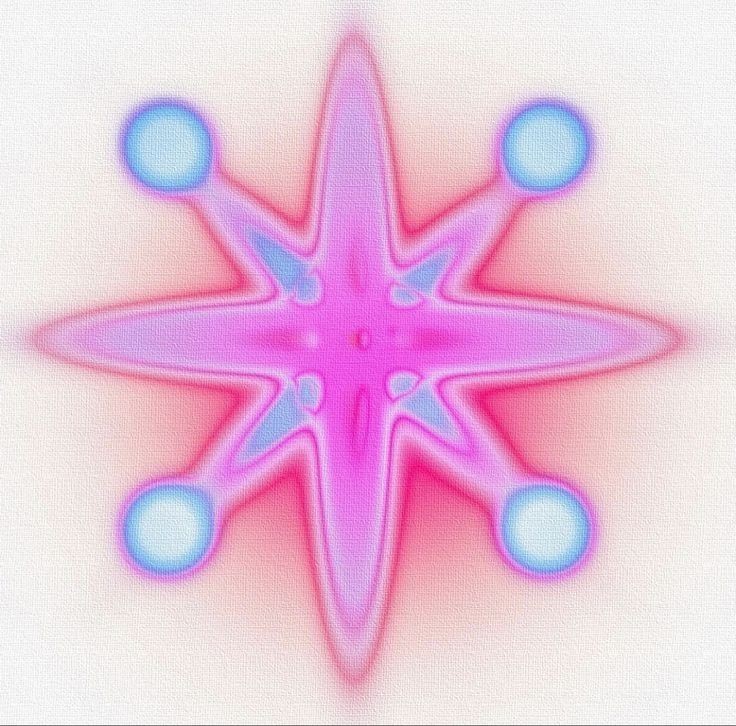Любовь и ненависть рассматриваются не только как взаимоисключающие чувства, но и взаимосвязанные: нельзя постичь ненависти, ничего не зная о любви; противоположностью, как любви, так и ненависти, является равнодушие. Они схожи в том, что в них имеется рациональный компонент. Любовь представляет рациональную форму познания объекта [2], а ненависть может выполнять важную биологическую функцию на службе сохранения жизни, когда существует угроза человеку, свободе, жизни, идее [26]. Любовь парадоксальна тем, что проявляется во множестве ее видов, противоречивости (несет в себе элемент страданий), неожиданности, в то время как ненависть более упрощена, имеет меньший вариационный ряд своих значений, эмоционально-образных составляющих. Эмоциональный аспект общности любви и ненависти заключен в месте ее локализации, который ассоциируется с жизнью – душевной жизнью (войти в сердце; покорять сердце; не чаять души в ком-либо; любить всей душой; с души воротит; душа не лежит); отражают эмоциональное отношение к людям, которое имеет устойчивый характер, может сопровождаться переменчивыми реакциями, которые в краткосрочном измерении могут иметь противоположное значение базовым чувствам. Любовь и ненависть относятся к эмоциональным концептам, воплощая в себе объективность и занимая промежуточное положение между предметной (наблюдаемой) и абстрактной (метафизической) областями [19]. Поэтому без обращения к психоаналитическим теориям и воззрения невозможно в полной мере осмыслить их природу, стоящие за ними внутренние психические процессы.
Рассмотрим основные положения теории З. Фрейда относительно любви и ненависти. Следует отметить, что несмотря на употребление З. Фрейдом термина «любовь» при формулировании теории психосексуального развития, сама любовь является некоторой данностью, допущением, сопровождением развития сексуальности, имеющим эволюционные особенности. Например, «мы называем мать первым объектом любви. Мы говорим именно о любви, когда выдвигаем на первый план душевную сторону сексуальных стремлений и отодвигаем назад или хотим на какой-то момент забыть лежащие в основе физические, или «чувственные», требования влечений» [25]. Его теория сексуального (психосексуального) развития, совершенствующаяся в течение всей жизни, содержит положения, которые фактически объясняют те характеристики любви и ненависти, которые рассматривались ранее:
1)З. Фрейд проводил идею о том, что в человеческой сексуальности нет ничего инстинктивного. Несмотря на то, что сексуальность имеет соматическое происхождение, но именно она создает все базовые предпосылки для развития психики, необходимость удовлетворения обусловленных ею влечений вызывает процесс движения и развития. Сексуальная функция манифестирует с самого раннего детства, и ее можно понять, лишь прослеживая ее развитие. Отсюда следует, что секс, как составная часть взрослой любовной жизни, не является собственно сексуальностью или проявлением любви.
2)В своих версиях развития сексуальности З. Фрейд процессы организации психической жизни рассматривал через понятия Эрос, Либидо, влечения: Либидо вызывает сексуальное возбуждение, побуждая индивида действовать в направлении удовлетворения этого желания, формирует влечение к объекту. О влечении еще нельзя твердо сказать, что оно любит свой объект. Однако опыт удовлетворения влечения прокладывает путь для его повторения и формирует память о нем. Добавляя к этому теорию объектных отношений, становится понятным, что именно этот удовлетворяющий, особенно ранний опыт, создает соматическую память, образ-репрезентант этого идиллического счастья, с которым часто ассоциируют любовь.
3)Согласно введенному З. Фрейдом концепту Эроса, сексуальная функция становится его частью, занятая поиском удовольствия более, чем собственным развитием. Эрос, релевантный инстинкту жизни (влечения «Я», или самосохранения), напротив, нацелен на созидание более крупных единств (ядра Я, телесного Я), чтобы лучше сопротивляться диссоциативным целям разрушительных влечений, которые присущи инстинкту смерти и стремятся «разбить связи и, следовательно, разрушить вещи». Эрос включает в себя сексуальность и прибавляет к ней поддержание связей, установленных влечением в поиске удовольствия. Эрос любит свой объект и хочет завязать с ним глубокие, длительные, прочные связи [23]. Во второй модели влечений это было сексуальное влечение и влечение «Я». Отсюда следует понимание еще одного вида любви, который связан с получением чувственного наслаждения. Вероятно, в соотношении эротических и сексуальных тенденций содержатся важные особенности любви.
4)Влечения, с одной стороны являются понятиями, обусловливающими развитие психики, ее силами, а с другой стороны чем-то примитивным, первичным, примордиальным, безусловно существующими. Согласно первой модели влечения З. Фрейда в ходе своего развития первичные сексуальные влечения обусловлены влечением самосохранения, исходят из внутреннего соматического источника внутреннего напряжения и направлены на объект, который должен его снять. Так на оральной фазе удовольствие от сосания груди является и эротическим удовольствием, связанным с удовлетворением эрогенной зоны рта, и удовольствием от приема пищи. В определенные моменты это влечение может удовлетворяться и без объекта, например, сосанием пальца, соски, приобретает автономность. Будучи первоначально частичными, действуя независимо друг от друга, эти влечения в процессе развития объединяются под приматом генитальности в более или менее полную общность, становятся собственно сексуальными влечениями.
5)Любовь в теории психоанализа не имеет статуса конкретного и самостоятельного понятия, она подразумевается там, где имеется психическая активность, направленная на объект и вызывающая удовлетворяющие переживания. Еще одной областью воззрений З. Фрейда на возникновение, структурирование и функционирование психики, которая играет важную роль не только в понимании основ любви и ненависти, но и психопатологии в целом, является тематика инстинкта смерти и жизни, связывания влечений. Либидо вызывает сексуальное возбуждение, сконцентрированное в эрогенных зонах. Оно сосуществует с разрушительными влечениями. При этом имеется не только сосуществование, но и использование энергии Танатоса для целей жизни, Эроса. Динамическое равновесие этих сил остается крайне важным на протяжении всей последующей жизни и источником амбивалентности. В стадии оральной организации любовное обладание совпадает с уничтожением объекта, его первой целью является поглощение, на анально-садистической фазе отношение к объекту проявляется стремлением к овладению, которому безразлично, будет ли при этом поврежден или уничтожен объект, впоследствии садистские стремления отделяются и, наконец, в стадии примата гениталий участвуют в сексуальной активности с целью продолжения рода, с необходимой долей агрессии, требуемой для совершения полового акта. Больше того, можно было бы сказать, что оттесненный из «Я» садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения, именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с либидозными компонентами, получается амбивалентность любви и ненависти в любовной жизни.
6)Однако во все этой истории игры Эроса и энергий Танатоса, динамике влечений нетрудно заметить, что сами влечения, направленные на объект в определенной мере пассивны (они от него хотят получить удовлетворение), хотя в некоторых ситуациях они чрезмерно ненасытны, активны, агрессивны (поглотить объект, завладеть им). Также важным моментом является объект влечения, поскольку им может стать либо другое лицо, либо собственное «Я». Это дает основания рассматривать в контексте любовной, сексуальной жизни еще ряд оппозиций, таких как садизм и мазохизм, эксбиционизм и вуайеризм и другие явления. Например, в садизме проявляется сила по отношению к объекту и помещение себя на его место при мазохизме (пассивная цель). Разнообразные форматы мазохизма и садизма (например, морального или обсессии) несут в себе динамику взаимосвязи удовольствия, автономной сексуальности, агрессии, пассивности и активности. В садизме-мазохизме Фрейд усматривал сплав любви и ненависти. Возможно, в здоровых вариантах «жертвенности» такие трансформации в небольшом количестве необходимы.
7)Самым главным выводом является тот факт, что классическая теория психоанализа детально исследуют развитие сексуальной, «любовной» функции, а не разрушительной, агрессивной, вероятно, поэтому существующий в сознательном пространстве концепт «ненависть» имеет намного меньше значений, характеристик, средств его выражения.
Фактически эти разрушительные тенденции, деструктивные силы остаются неизменными, проявляются в прямом агрессивном выражении. Сексуальная же функция, напротив, чем более развивается, тем более эволюционирует - от аутоэротизма к инвестиции сексуальности другого. Инвестировать в объект означает стремиться к такой форме объектной любви, которая ведет к встрече с любовью, переживаемой самим объектом, сексуальность в своем развитии включает в себя любовь.
8)Следует обратить внимание еще на одну особенность Эроса, поскольку он стремится к созданию все больших объединений, то с ним связано и связывание энергии, вторичные процессы в «Я». Жить, думать, любить - вот три формы протекания процессов психического связывания, которые все три представляются тесно связанными между собой. А свободная, не поддающаяся связыванию психическая энергия, касается не только характера первичных процессов в «Я», но и атрибутом разрушительных влечений. Потому, лежащая в основе ненависти энергия, агрессия примитивна, она «съедает, пожирает самого ненавидящего». Невозможность изолированного наблюдения ни одной из двух основных групп влечений является важнейшим концептуальным выводом из последней теории влечений. З. Фрейд отмечал, что «все поддающиеся нашему изучению инстинктивные побуждения состоят из подобных смесей или, иначе говоря, сплавов обоих видов влечений. Естественно, в весьма различных соотношениях…Они настолько тесно объединены в различных пропорциях, что любой аспект психики, относящийся к одной из двух групп влечений, требует для своего настоящего понимания выявления участия в нем и другой группы влечений…в самом сексуальном акте нехватка агрессивности делает мужчину импотентом, избыток же агрессивности превращает его в садиста». Но, помимо объединения, вследствие регрессивных процессов наблюдаются также феномены разъединения, когда одна группа влечений как будто бы находит возможность освободиться или, точнее, отвязаться и следовать своим собственным путем. Этот процесс наблюдается в психосоматическом развязывании влечений.
Таким образом, классическая теория психоанализа З. Фрейда предоставляет обширный материал для понимания природы любви и ненависти, их бинарной оппозиции, о любви как ментальных образованиях, ее характеристиках на различных стадиях развития, ненависти как более архаичной силе, не требующей процессов вторичной обработки на наиболее ранних этапах. Не следует забывать, что в процессе развития объектных отношений, прототипически любовное, позитивное чувство, как и очевидно ненавистническое встречаются одновременно по отношению к одному и тому же объекту, что представляет из себя самый лучший пример амбивалентности чувств. Вероятно, эти реакции с большим преувеличением можно назвать чувствами, поскольку устойчивое отношение, привязанность к целостному объекту возможно после преодоления этой амбивалентности удовольствия (любви) и неудовольствия (ненависти) от объекта. Поэтому так частно наблюдаемые резкие переходы от любви до ненависти по отношению к значимому объекту больше свидетельствуют о непрочности собственной идентичности, целостности репрезентации себя и объекта, горизонтальном расщеплении, чем об амбивалентности любви.
Модель любви, предоставляемая психоанализом, состоит как из некоторых абстракций, например, сродни платоновской, так и вполне представимых явлений, конструкций (например, влечение, объект, «Я»), феноменов (например, связывание влечений) и дает объяснения концептам ненависти и любви, типам любви, подчеркивая, что традиционная, оптимальная, здоровая любовь возможна после успешного прохождения всех стадий психосексуального развития, включает в себя сексуальные влечения (сексуальность) и влечения «Я» (Эрос), направленные на гетеросексуальный объект. Соответственно каждая из этих составляющих влияет на качество, характер любви. Сила Я/Эго, рассматриваемые в другой терминологической системе как идентичность, конечно, играют важную роль в поддержании стабильных эмоциональных отношениях с фундаментальной эмоциональной потребностью любить, целостности по отношению к выбранному объекту любви, толерантностью, поскольку сексуальная страстность с ее физиологической основой, не обработанной вторичными процессами, имеет меньше шансов быть стабильной.
Теория объектных отношений наполнила когнитивным содержанием связывание, формирование и трансформацию бессознательных мотивационных рядов любви и ненависти, их интрапсихической жизни, базирующихся на сексуальном или агрессивном влечении. Конечно, это расширение предоставляет более обширный материал для понимания многих аспектов любви и ненависти, оставляя неизменным сексуальный дискурс любви.
О. Кернберг, опираясь на теорию объектных отношений и признавая за влечениями материальную основу для формирования аффектов (когнитивных репрезентаций влечений), подробно рассмотрел превратности сексуального опыта через агрессивные или сексуальные компоненты, интернализованные объектных отношений, создаваемого опытом их переживаний интернализованного мира фантазий, что будет в последующем составлять стержень любовных устремлений в динамике бессознательного. Им теоретически обоснована модель зрелой сексуальной любови, находящей воплощение в трех сферах: 1) реальные сексуальные отношения; 2) сознательно и бессознательно доминирующие объектные отношения; 3) установление совместного Эго-идеала. При этом в реальных сексуальных отношениях важное значение имеет способность к сексуальному возбуждению и эротическому желанию. Сексуальное возбуждение рассматривается О. Кернбергом как более поздний и более дифференцированный аффект; представляя интегрированный эротически окрашенный опыт, связанный со всем полем психического опыта, который не ограничивается стимуляцией определенной эрогенной зоны, и проявляется ощущением удовольствия всего тела. В противном случае это будет биологическим явлением, например, генитальное возбуждение, тогда механическое повторяющееся сексуальное возбуждение и оргазм встраиваются в структуру опыта, отделенную от углубляющихся интернализованных объектных отношений. Эротическое желание всегда связано с объектом, поиском удовольствия, направленного на другого человека, стремлением к близости и слиянию, сознательными или бессознательными сексуальными фантазиями. Эротическое желание сопровождают и другие аффекты, такие как нежность, влюбленность, страсть. Нежность отражает интеграцию либидинальных и агрессивных элементов Я- и объект-репрезентаций и переносимость амбивалентности. Страсть воплощает соединение интрапсихических структур, в противоположность опасностям, исходящим из многих источников и пугающим при соединении с другим человеком, временный отказ от границ «Я», их расширение до ощущения субъективно диффузных биологических основ существования. Влюбленность отражает способность соединять идеализацию с эротическим желанием и потенциалом для развития глубоких объектных отношений. В реализации зрелой любви также имеют значение и другие явления интрапсихической жизни, которые представляют более продвинутую степень развития ранних форм объектных отношений. К ним относятся генитальная идентификация, идеализация, проекция, интеграция либидо и агрессии, любви и ненависти (преодоление амбивалентности), зрелость Супер-Эго. При генитальной идентификации сохраняется собственная идентичность в любовных отношениях, но происходит идентификация с сексуальным возбуждением партнера и оргазмом, чтобы получить удовольствие от двух дополняющих друг друга переживаний слияния. При зрелой любви влюбленность определяется проекцией идеалов, развивающихся по мере структурного развития внутри Супер-Эго (включая Я-идеал), в отличие от «романтической юношеской любви» с ее проекцией Я-идеала. Идеализация также является комплексным образованием, включающим раннюю идеализацию тела любимого другого и поздняя идеализация целостной личности другого человека, которые развиваются в идеализацию системы ценностей объекта любви – идеализацию этических, культурных и эстетических ценностей – развитие, что обеспечивает возможность романтической влюбленности. Зрелость функций Супер-Эго у обоих партнеров проявляется в способности испытывать ответственность за другого и за пару в целом, в заботе об отношениях и в защите их от последствий неизбежной активизации агрессии, а также в создании общей системы ценностей (здоровых аспекты Эго-идеалов обоих партнеров). В развитии и поддержании любви имеет значение также благодарность, вклад в которую вносят и Эго, и Супер-Эго. В итоге, обобщенная идеальная модель сексуальной любви, предложенная О. Кернбергом, категориально относится к сложной эмоциональной реакции, которая включает в себя: «(1) сексуальное возбуждение, переходящее в эротическое желание, по отношению к другому человеку; (2) нежность, происходящую из объединения либидинальных и агрессивно нагруженных Я– и объект-репрезентаций, с преобладанием любви над агрессией и толерантностью к нормальной амбивалентности, характеризующей все человеческие отношения; (3) идентификацию с другим, включающую и реципрокную (ответную) генитальную идентификацию, и глубокую эмпатию к половой идентичности партнера; (4) зрелую форму идеализации с обязательствами по отношению к партнеру и к отношениям; (5) элемент страсти во всех трех аспектах: сексуальных отношениях, объектных отношениях и роли Супер-Эго пары» [11].
Используя эти составляющие любви, можно конструировать различные формы ее проявления в парах, с учетом роли, количества агрессии (ненависти). Более того, если психоаналитические теории рассматривают любовь как способность и качество половых объектных отношений, возникшее в результате успешного прохождения всех этапов психосексуального развития, что по О. Кернбергу соответствует зрелой любви, то, сохранение свойств ее предшествующих, инфантильных форм или защитных от сексуальных влечений, будет являться фактором, не позволяющим строить успешные браки и определяющим разнообразие видов любви, начиная с античности. Очевидно, чем больше в любви признаков самой ранней эротики, крайне интенсивных, менее управляемых аффектов любви и ненависти ее сопровождающих, тем драматичнее любовь. Примером может служить любовь Ромео и Джульетты со множеством смертей. В случаях шизотипической любви, когда сексуальные влечения не прошли организацию по эгидой генитальности, состояние любви не обогащает «Я», бессознательно объект представляет идеальный жизнеобеспечивающий первичный объект, от которого можно только получать, но не заботиться ни бессознательно, ни в реальности, он не является отдельной личностью, то рано или поздно, в зависимости от степени освоенности поведенческих паттернов, присущих любовным отношениям, объект любви отказывается от таких отношений. Это безжизненная, картиночная любовь, лишенная чувств. В наиболее мягком варианте, потерявший любовный объект чрезвычайно страдает, в крайних вариантах, ненависть в форме ярости может привести к открытому и немотивированному насилию. Так, один молодой человек считал, что любит свою девушку, она важна для него, только потому, что она у него есть: он может с ней посещать разные мероприятия, иногда заниматься сексом, она поддерживает его, но, если она позвонила не в то время, когда он этого желал, то его посещала крайняя раздражительность, которую приходилось подавлять и под разными предлогами отказываться от разговора. Он упрекал ее во-многом, что она невнимательна к нему, не следует за его желаниями и т.д. Другой молодой человек также считал, что любит свою девушку, они вместе учились, иногда вместе обедали, ходили гулять, многие считали, что они пара. Когда девушка отказалась от «отношений», он пришел к ней домой объясниться, но вместо нее была ее мать, которая получила 23 колото-резаных ран со смертельным исходом.
Следует вновь вспомнить тот факт, что для любви З. Фрейдом указывались биологические источники сексуальных влечений, связанные с возбудимостью эрогенных зон, однако для агрессии таких источников не называлось. Она всегда понималась через оппозицию к либидинальным влечениям. Данные обстоятельства, с одной стороны, объясняют многообразие явлений, сопровождающую любовь, а, с другой, указывают на необходимость рассмотрения ненависти только в связке с процессами развития любовных отношений. Что касается первой стороны, то наличие телесности, конкретных эрогенных зон в либидинальном влечении создает более определенные паттерны переживаемого опыта, начиная от довербальной памяти психосоматического ощущения слияния с объектом, формируют сексуальное желание. Агрессия в своем поведенческом проявлении, начиная с момента рождения, когда «ребенок закричал» и последующем просигнализировал криком о неблагополучии, первоначально не только стоит на службе жизни, но и демонстрирует наличие двух крайних состояний – «удовольствия» и «боли», вокруг которых в последующем группируются либидозные и агрессивные влечения.
Наличие у влечений цели и объекта является ключевым моментом в объединении физического и психического, появлении первых когниций, аффективных структур памяти, создании репрезентаций себя и объектов при переживании этих аффективных состояний, фантазий.
Если вновь обратиться к психоаналитической теории развития, то на первой стадии из физиологически активируемых функций и зон тела, которые могут вовлекаться во взаимодействия младенца с матерью, формируются ранние интрапсихические структуры, относящиеся к симбиотической стадии развития и связанные с переживанием удовольствия-неудовольствия, либидозно стимулируемыми переживаниями и переживаниями депривации, приобретающих смысл любви и ненависти (ярости) по отношению к объекту их вызвавшему. С появлением аффекта ярости как первого аффекта агрессивного влечения с его первоначальной функцией по удалению источника боли или раздражения, а затем препятствий к удовлетворению желаемого создается оппозиция любви и появление аффектов, которые развиваются вокруг реакций ярости. Значение реакции ярости заключается как в активации абсолютно плохих объектных отношений, так и желании устранить их и восстановить абсолютно хорошие. О. Кернберг проводя отличие между яростью, злостью и ненавистью, отмечает варьирующий, временный когнитивный аспект первых и устойчивый, хронический второй. Важнейшей целью человека, захваченного ненавистью, он называет уничтожение своего объекта, специфического объекта бессознательной фантазии и сознательных производных этого объекта. Если ненависть становится укорененной в характере устойчивой и отчетливой особенностью, то она уже отражает психопатологию агрессии. Из наиболее ранних исключительных отношений с кормящей грудью, обладающей всем, что необходимо младенцу, возникают деструктивные импульсы зависти, рядом стоящего с ненавистью агрессивного аффекта. М. Кляйн определила зависть как орально-садистское и анально-садистское выражение деструктивных импульсов, действующих с начала жизни, и имеющих конституциональную основу [12]. В таком контексте зависть отражает активно-агрессивное стремление к экспансии и полновластному обладанию ценностями объекта любви, всем объектом, а ненависть становится защитой от чувства беспомощности и нарциссической ранимости, что по смыслу также соотносится с устранением источника боли. Ограниченный набор когнитивных составляющих аффекта ненависти, его практически не изменяющиеся бессознательные корреляты соответствует сознательным представлениям концепта ненависти. Следует признать, что все последующее развитие так или иначе происходит под эгидой любви: поиск удовольствия, получаемого от функций объекта и любви, когда он становится целостным, сначала пассивного получения, а затем и активного со вступлением в эдипальный период развития. Вероятно, этим объясняется многоликость, сложность конструкции любви и ее понимания. Не вызывает сомнений, что рассматриваемые психоаналитиками процессы развития любви, делают ее движущей силой жизни, отражая ее онтологическую природу. Любовь включает биологическую составляющую (сексуальность), ментальную и социальную (феномен человеческого бытия), проявляясь в полной мере только на самом элементарном уровне объединения раздельных индивидуальностей на службе половой любови.
Возникает основной вопрос: как любовь и ненависть входят в человеческую жизнь на других уровнях ее организации, в другие межличностные отношения, кроме половой любви, парной связи? Наверное, ответ достаточно очевиден, поскольку любовь созидает, создаёт, рождает не только чувства, но и производные от этих чувств – отношения, впрочем, как и ненависть.
Так, следующим уровнем взаимодействия людей являются более или менее организованные сообщества, начиная от комьюнити по месту проживания и до сообщества на уровне региона, от ближайшего окружения по месту работы до профессионального сообщества и т.д. При более или менее длительных контактах внутри таких групп могут возникнуть эротические желания с прямой сексуальной целью, имеющей признаки интимности и страстности. Примером такой любви являются эротизированный перенос в аналитической ситуации, служебный роман в рабочих отношениях и т.д. Такие «сексуальные стремления сохраняют индивидуальную деятельность», как отмечал Фрейд, но неблагоприятны для массы, разрушают ее. «Заторможенные в смысле цели сексуальные влечения имеют большое функциональное преимущество; так как они неспособны к полному удовлетворению, то они особенно пригодны для создания длительных привязанностей». Возникающие привязанности являются проявлением либидинозной организации массы, в которой существуют и другие механизмы эмоциональной привязанности, оказывая благотворное влияние на ее функционирование [24].
Актуализация матрицы либидинозных и агрессивных импульсов, сексуальных влечений в прямом выражении или в заторможенном, защитном варианте является предметом исследования в аналитической ситуации, приобретая формат эротизированного или эротического, позитивного переноса (трансферентной любви) Фрейд определял эротический перенос как манифестацию вытесненных (бессознательных) эротических импульсов и сексуальных фантазий, смещение раннего фрустрированного любовного отношения на фигуру аналитика. Второй тип, позитивный перенос, рассматривался Фрейдом как осознаваемый, хотя и имеющий сублимированные эротические истоки. Фрейд считал, что этот тип переноса необходим для успешного результата анализа, поскольку это основа для взаимоотношений сотрудничества с аналитиком. Психоаналитическое исследование трансферентной любви свидетельствует о наличии всех компонентов обычного процесса влюбленности: проекции на другого (аналитика) зрелых аспектов Эго-идеала; амбивалентного отношения к эдипову объекту; развертывания полиморфных перверзивных инфантильных и генитальных эдиповых желаний и в то же время борьбы против них [11]. Негативный перенос, напротив, основан на ненависти в любой из ее форм, предшественников и дериватов. Очевидно, что существующие в распоряжении индивида способы построения объектных отношений, обращения со своими влечениями, качества и набора аффективных состояний и др., будут участвовать в построении психологии и более широких групп человеческого бытия.
З. Фрейд в своей работе «Психология масс и анализ человеческого Я» детально рассмотрел основные феномены массовой души [24]. Перечислим основные из них:
- появление свойств, которые могут не встречаться у индивида вне группы. К ним относятся чувство принадлежности общности, повышение эффективности, более высокая восприимчивость к внушению, подчинение импульсам, которые побеждают личное, ограничение индивидуального нарциссизма, легкость проявления бессознательного, повышение роли инстинктивной активности снижение ответственности. В целом психика масс часто напоминает психику ребенка, с непереносимостью никакой отсрочки между своим желанием и осуществлением его, снижение критики, отсутствие конфликта между противоречащими тенденциями, мышление не логическое, а картинками, отступление принципа реальности, повышение всех эмоциональных побуждений до крайности, до безграничности, до гиперпреувеличенности. Нивелирование этих проявлений возможно при устойчивой организации массы, с наличием устойчивых связей, понятностью правил функционирования в ней, наличие связей с другими подобными группами, традиций, обычаев.
- потребность в вожде, инстинктивное подчинение лидеру, нетерпимость и доверие к авторитету.
- готовность к ненависти, к агрессивности, происхождение которой неизвестно и которой можно приписать элементарный характер.
- общность индивидов друг с другом в одной группе и резкие отличия от другой рождают почти непреодолимую неприязненность.
- возможность ее разложения, с возникновением паники. Фрейд объясняет ее реакцией на ослабление либидинозной структуры массы, возникающей в условиях сильной внешней опасности, страха и неудовлетворенности либидинозного притязания членов организованной массы. Можно провести и другую аналогию, например, паника в условиях реальной жизнеопасной ситуации или дезинтеграционная тревога, сравнимая с паникой.
Основу жизнеспособности и организованности массы Фрейд видел в привязанности между ее членами, имеющей либидинозное происхождение и составляющей ее сущность, а основным механизмом, ей способствующим называл идентификацию. Термин «масса» носил обобщающий характер, включая различные варианты человеческих сообществ.
Очевидно, что многие описательные элементы массовой психологии могли бы быть раскрыты гораздо шире. Например, объяснение потребности «массы» (в отличие от толпы) как инстинктивной потребности стада во властелине, кажется крайне ограниченной. Если заявленная либидозная по происхождению привязанность к значимому объекту свойственна и необходима человеку с рождения, то и в случае образования комьюнити, она, едва ли может прекратиться. Фактически вождь, лидер, государственная власть могут играть роль эдипального отца, родительской силы. Достаточно вспомнить, что на Руси Царя называли батюшкой-Царем, отцом. Сценарии, разыгрывающиеся в этих случаях в младенчестве, раннем детстве, вполне воспроизводимы во взаимоотношении массы и государства, ее руководителя. Так, отсутствие внимания со стороны первых на потребности масс, что неизбежно порождает ненависть с различными вариантами ее выражения. Если, вспомнить пресловутые 90-е годы, то ее было в избытке, включая открытое проявление агрессии, массовый алкоголизм как скрытую форму агрессии. Обесценивание власти и беспомощность перед ней не только смещает агрессию на другие объекты, но и выражается, например, в игнорировании институтов власти, отказа от голосования и т.д.
З. Фрейд приводит примеры лидинозной основы внутри искусственно организованной массы, в частности, церкви, состоящей из любви к вождю (Христос, Бог) и любви к остальным индивидам, входящим в массу. Однако, необходимо отметить не менее важный аспект такой группы. Можно предположить, что религия, церковь являлась необходимым этапом развития человеческого общества, поскольку давала четкие инструкции по жизнедеятельности, избегая требований к наличию интроецированных норм, ценностей, личностной идентичности в целом. Недостаточная идентичность группы, ее жизненности, либидинозности порождает потребность в нарциссических защитах, прежде всего от всеобъемлющей зависти к другим группам, актуализируя агрессивные влечения. В любом случае, утверждение Фрейда о наличии либидинозной основы в объединении группы, удовлетворенности либидинозных притязаний в ее поддержании и легкость возникновения ненависти при их нивелировании остается неизменной.
Можно ли говорить о психологии группы как об отдельном феномене или она отражает сумму индивидуальных психологий? Как связаны индивидуальные особенности любви у членов группы и всей группы, от чего зависит динамика любви и ненависти внутри группы и всей группы по отношению к другим группам? Вероятно, законы относительно любви и ненависти, присущие индивидуальной психике, найдут отражение и в групповой динамике. В целом можно констатировать, что существует огромное поле для дальнейших исследований.
Рассмотрим основные положения теории З. Фрейда относительно любви и ненависти. Следует отметить, что несмотря на употребление З. Фрейдом термина «любовь» при формулировании теории психосексуального развития, сама любовь является некоторой данностью, допущением, сопровождением развития сексуальности, имеющим эволюционные особенности. Например, «мы называем мать первым объектом любви. Мы говорим именно о любви, когда выдвигаем на первый план душевную сторону сексуальных стремлений и отодвигаем назад или хотим на какой-то момент забыть лежащие в основе физические, или «чувственные», требования влечений» [25]. Его теория сексуального (психосексуального) развития, совершенствующаяся в течение всей жизни, содержит положения, которые фактически объясняют те характеристики любви и ненависти, которые рассматривались ранее:
1)З. Фрейд проводил идею о том, что в человеческой сексуальности нет ничего инстинктивного. Несмотря на то, что сексуальность имеет соматическое происхождение, но именно она создает все базовые предпосылки для развития психики, необходимость удовлетворения обусловленных ею влечений вызывает процесс движения и развития. Сексуальная функция манифестирует с самого раннего детства, и ее можно понять, лишь прослеживая ее развитие. Отсюда следует, что секс, как составная часть взрослой любовной жизни, не является собственно сексуальностью или проявлением любви.
2)В своих версиях развития сексуальности З. Фрейд процессы организации психической жизни рассматривал через понятия Эрос, Либидо, влечения: Либидо вызывает сексуальное возбуждение, побуждая индивида действовать в направлении удовлетворения этого желания, формирует влечение к объекту. О влечении еще нельзя твердо сказать, что оно любит свой объект. Однако опыт удовлетворения влечения прокладывает путь для его повторения и формирует память о нем. Добавляя к этому теорию объектных отношений, становится понятным, что именно этот удовлетворяющий, особенно ранний опыт, создает соматическую память, образ-репрезентант этого идиллического счастья, с которым часто ассоциируют любовь.
3)Согласно введенному З. Фрейдом концепту Эроса, сексуальная функция становится его частью, занятая поиском удовольствия более, чем собственным развитием. Эрос, релевантный инстинкту жизни (влечения «Я», или самосохранения), напротив, нацелен на созидание более крупных единств (ядра Я, телесного Я), чтобы лучше сопротивляться диссоциативным целям разрушительных влечений, которые присущи инстинкту смерти и стремятся «разбить связи и, следовательно, разрушить вещи». Эрос включает в себя сексуальность и прибавляет к ней поддержание связей, установленных влечением в поиске удовольствия. Эрос любит свой объект и хочет завязать с ним глубокие, длительные, прочные связи [23]. Во второй модели влечений это было сексуальное влечение и влечение «Я». Отсюда следует понимание еще одного вида любви, который связан с получением чувственного наслаждения. Вероятно, в соотношении эротических и сексуальных тенденций содержатся важные особенности любви.
4)Влечения, с одной стороны являются понятиями, обусловливающими развитие психики, ее силами, а с другой стороны чем-то примитивным, первичным, примордиальным, безусловно существующими. Согласно первой модели влечения З. Фрейда в ходе своего развития первичные сексуальные влечения обусловлены влечением самосохранения, исходят из внутреннего соматического источника внутреннего напряжения и направлены на объект, который должен его снять. Так на оральной фазе удовольствие от сосания груди является и эротическим удовольствием, связанным с удовлетворением эрогенной зоны рта, и удовольствием от приема пищи. В определенные моменты это влечение может удовлетворяться и без объекта, например, сосанием пальца, соски, приобретает автономность. Будучи первоначально частичными, действуя независимо друг от друга, эти влечения в процессе развития объединяются под приматом генитальности в более или менее полную общность, становятся собственно сексуальными влечениями.
5)Любовь в теории психоанализа не имеет статуса конкретного и самостоятельного понятия, она подразумевается там, где имеется психическая активность, направленная на объект и вызывающая удовлетворяющие переживания. Еще одной областью воззрений З. Фрейда на возникновение, структурирование и функционирование психики, которая играет важную роль не только в понимании основ любви и ненависти, но и психопатологии в целом, является тематика инстинкта смерти и жизни, связывания влечений. Либидо вызывает сексуальное возбуждение, сконцентрированное в эрогенных зонах. Оно сосуществует с разрушительными влечениями. При этом имеется не только сосуществование, но и использование энергии Танатоса для целей жизни, Эроса. Динамическое равновесие этих сил остается крайне важным на протяжении всей последующей жизни и источником амбивалентности. В стадии оральной организации любовное обладание совпадает с уничтожением объекта, его первой целью является поглощение, на анально-садистической фазе отношение к объекту проявляется стремлением к овладению, которому безразлично, будет ли при этом поврежден или уничтожен объект, впоследствии садистские стремления отделяются и, наконец, в стадии примата гениталий участвуют в сексуальной активности с целью продолжения рода, с необходимой долей агрессии, требуемой для совершения полового акта. Больше того, можно было бы сказать, что оттесненный из «Я» садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения, именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с либидозными компонентами, получается амбивалентность любви и ненависти в любовной жизни.
6)Однако во все этой истории игры Эроса и энергий Танатоса, динамике влечений нетрудно заметить, что сами влечения, направленные на объект в определенной мере пассивны (они от него хотят получить удовлетворение), хотя в некоторых ситуациях они чрезмерно ненасытны, активны, агрессивны (поглотить объект, завладеть им). Также важным моментом является объект влечения, поскольку им может стать либо другое лицо, либо собственное «Я». Это дает основания рассматривать в контексте любовной, сексуальной жизни еще ряд оппозиций, таких как садизм и мазохизм, эксбиционизм и вуайеризм и другие явления. Например, в садизме проявляется сила по отношению к объекту и помещение себя на его место при мазохизме (пассивная цель). Разнообразные форматы мазохизма и садизма (например, морального или обсессии) несут в себе динамику взаимосвязи удовольствия, автономной сексуальности, агрессии, пассивности и активности. В садизме-мазохизме Фрейд усматривал сплав любви и ненависти. Возможно, в здоровых вариантах «жертвенности» такие трансформации в небольшом количестве необходимы.
7)Самым главным выводом является тот факт, что классическая теория психоанализа детально исследуют развитие сексуальной, «любовной» функции, а не разрушительной, агрессивной, вероятно, поэтому существующий в сознательном пространстве концепт «ненависть» имеет намного меньше значений, характеристик, средств его выражения.
Фактически эти разрушительные тенденции, деструктивные силы остаются неизменными, проявляются в прямом агрессивном выражении. Сексуальная же функция, напротив, чем более развивается, тем более эволюционирует - от аутоэротизма к инвестиции сексуальности другого. Инвестировать в объект означает стремиться к такой форме объектной любви, которая ведет к встрече с любовью, переживаемой самим объектом, сексуальность в своем развитии включает в себя любовь.
8)Следует обратить внимание еще на одну особенность Эроса, поскольку он стремится к созданию все больших объединений, то с ним связано и связывание энергии, вторичные процессы в «Я». Жить, думать, любить - вот три формы протекания процессов психического связывания, которые все три представляются тесно связанными между собой. А свободная, не поддающаяся связыванию психическая энергия, касается не только характера первичных процессов в «Я», но и атрибутом разрушительных влечений. Потому, лежащая в основе ненависти энергия, агрессия примитивна, она «съедает, пожирает самого ненавидящего». Невозможность изолированного наблюдения ни одной из двух основных групп влечений является важнейшим концептуальным выводом из последней теории влечений. З. Фрейд отмечал, что «все поддающиеся нашему изучению инстинктивные побуждения состоят из подобных смесей или, иначе говоря, сплавов обоих видов влечений. Естественно, в весьма различных соотношениях…Они настолько тесно объединены в различных пропорциях, что любой аспект психики, относящийся к одной из двух групп влечений, требует для своего настоящего понимания выявления участия в нем и другой группы влечений…в самом сексуальном акте нехватка агрессивности делает мужчину импотентом, избыток же агрессивности превращает его в садиста». Но, помимо объединения, вследствие регрессивных процессов наблюдаются также феномены разъединения, когда одна группа влечений как будто бы находит возможность освободиться или, точнее, отвязаться и следовать своим собственным путем. Этот процесс наблюдается в психосоматическом развязывании влечений.
Таким образом, классическая теория психоанализа З. Фрейда предоставляет обширный материал для понимания природы любви и ненависти, их бинарной оппозиции, о любви как ментальных образованиях, ее характеристиках на различных стадиях развития, ненависти как более архаичной силе, не требующей процессов вторичной обработки на наиболее ранних этапах. Не следует забывать, что в процессе развития объектных отношений, прототипически любовное, позитивное чувство, как и очевидно ненавистническое встречаются одновременно по отношению к одному и тому же объекту, что представляет из себя самый лучший пример амбивалентности чувств. Вероятно, эти реакции с большим преувеличением можно назвать чувствами, поскольку устойчивое отношение, привязанность к целостному объекту возможно после преодоления этой амбивалентности удовольствия (любви) и неудовольствия (ненависти) от объекта. Поэтому так частно наблюдаемые резкие переходы от любви до ненависти по отношению к значимому объекту больше свидетельствуют о непрочности собственной идентичности, целостности репрезентации себя и объекта, горизонтальном расщеплении, чем об амбивалентности любви.
Модель любви, предоставляемая психоанализом, состоит как из некоторых абстракций, например, сродни платоновской, так и вполне представимых явлений, конструкций (например, влечение, объект, «Я»), феноменов (например, связывание влечений) и дает объяснения концептам ненависти и любви, типам любви, подчеркивая, что традиционная, оптимальная, здоровая любовь возможна после успешного прохождения всех стадий психосексуального развития, включает в себя сексуальные влечения (сексуальность) и влечения «Я» (Эрос), направленные на гетеросексуальный объект. Соответственно каждая из этих составляющих влияет на качество, характер любви. Сила Я/Эго, рассматриваемые в другой терминологической системе как идентичность, конечно, играют важную роль в поддержании стабильных эмоциональных отношениях с фундаментальной эмоциональной потребностью любить, целостности по отношению к выбранному объекту любви, толерантностью, поскольку сексуальная страстность с ее физиологической основой, не обработанной вторичными процессами, имеет меньше шансов быть стабильной.
Теория объектных отношений наполнила когнитивным содержанием связывание, формирование и трансформацию бессознательных мотивационных рядов любви и ненависти, их интрапсихической жизни, базирующихся на сексуальном или агрессивном влечении. Конечно, это расширение предоставляет более обширный материал для понимания многих аспектов любви и ненависти, оставляя неизменным сексуальный дискурс любви.
О. Кернберг, опираясь на теорию объектных отношений и признавая за влечениями материальную основу для формирования аффектов (когнитивных репрезентаций влечений), подробно рассмотрел превратности сексуального опыта через агрессивные или сексуальные компоненты, интернализованные объектных отношений, создаваемого опытом их переживаний интернализованного мира фантазий, что будет в последующем составлять стержень любовных устремлений в динамике бессознательного. Им теоретически обоснована модель зрелой сексуальной любови, находящей воплощение в трех сферах: 1) реальные сексуальные отношения; 2) сознательно и бессознательно доминирующие объектные отношения; 3) установление совместного Эго-идеала. При этом в реальных сексуальных отношениях важное значение имеет способность к сексуальному возбуждению и эротическому желанию. Сексуальное возбуждение рассматривается О. Кернбергом как более поздний и более дифференцированный аффект; представляя интегрированный эротически окрашенный опыт, связанный со всем полем психического опыта, который не ограничивается стимуляцией определенной эрогенной зоны, и проявляется ощущением удовольствия всего тела. В противном случае это будет биологическим явлением, например, генитальное возбуждение, тогда механическое повторяющееся сексуальное возбуждение и оргазм встраиваются в структуру опыта, отделенную от углубляющихся интернализованных объектных отношений. Эротическое желание всегда связано с объектом, поиском удовольствия, направленного на другого человека, стремлением к близости и слиянию, сознательными или бессознательными сексуальными фантазиями. Эротическое желание сопровождают и другие аффекты, такие как нежность, влюбленность, страсть. Нежность отражает интеграцию либидинальных и агрессивных элементов Я- и объект-репрезентаций и переносимость амбивалентности. Страсть воплощает соединение интрапсихических структур, в противоположность опасностям, исходящим из многих источников и пугающим при соединении с другим человеком, временный отказ от границ «Я», их расширение до ощущения субъективно диффузных биологических основ существования. Влюбленность отражает способность соединять идеализацию с эротическим желанием и потенциалом для развития глубоких объектных отношений. В реализации зрелой любви также имеют значение и другие явления интрапсихической жизни, которые представляют более продвинутую степень развития ранних форм объектных отношений. К ним относятся генитальная идентификация, идеализация, проекция, интеграция либидо и агрессии, любви и ненависти (преодоление амбивалентности), зрелость Супер-Эго. При генитальной идентификации сохраняется собственная идентичность в любовных отношениях, но происходит идентификация с сексуальным возбуждением партнера и оргазмом, чтобы получить удовольствие от двух дополняющих друг друга переживаний слияния. При зрелой любви влюбленность определяется проекцией идеалов, развивающихся по мере структурного развития внутри Супер-Эго (включая Я-идеал), в отличие от «романтической юношеской любви» с ее проекцией Я-идеала. Идеализация также является комплексным образованием, включающим раннюю идеализацию тела любимого другого и поздняя идеализация целостной личности другого человека, которые развиваются в идеализацию системы ценностей объекта любви – идеализацию этических, культурных и эстетических ценностей – развитие, что обеспечивает возможность романтической влюбленности. Зрелость функций Супер-Эго у обоих партнеров проявляется в способности испытывать ответственность за другого и за пару в целом, в заботе об отношениях и в защите их от последствий неизбежной активизации агрессии, а также в создании общей системы ценностей (здоровых аспекты Эго-идеалов обоих партнеров). В развитии и поддержании любви имеет значение также благодарность, вклад в которую вносят и Эго, и Супер-Эго. В итоге, обобщенная идеальная модель сексуальной любви, предложенная О. Кернбергом, категориально относится к сложной эмоциональной реакции, которая включает в себя: «(1) сексуальное возбуждение, переходящее в эротическое желание, по отношению к другому человеку; (2) нежность, происходящую из объединения либидинальных и агрессивно нагруженных Я– и объект-репрезентаций, с преобладанием любви над агрессией и толерантностью к нормальной амбивалентности, характеризующей все человеческие отношения; (3) идентификацию с другим, включающую и реципрокную (ответную) генитальную идентификацию, и глубокую эмпатию к половой идентичности партнера; (4) зрелую форму идеализации с обязательствами по отношению к партнеру и к отношениям; (5) элемент страсти во всех трех аспектах: сексуальных отношениях, объектных отношениях и роли Супер-Эго пары» [11].
Используя эти составляющие любви, можно конструировать различные формы ее проявления в парах, с учетом роли, количества агрессии (ненависти). Более того, если психоаналитические теории рассматривают любовь как способность и качество половых объектных отношений, возникшее в результате успешного прохождения всех этапов психосексуального развития, что по О. Кернбергу соответствует зрелой любви, то, сохранение свойств ее предшествующих, инфантильных форм или защитных от сексуальных влечений, будет являться фактором, не позволяющим строить успешные браки и определяющим разнообразие видов любви, начиная с античности. Очевидно, чем больше в любви признаков самой ранней эротики, крайне интенсивных, менее управляемых аффектов любви и ненависти ее сопровождающих, тем драматичнее любовь. Примером может служить любовь Ромео и Джульетты со множеством смертей. В случаях шизотипической любви, когда сексуальные влечения не прошли организацию по эгидой генитальности, состояние любви не обогащает «Я», бессознательно объект представляет идеальный жизнеобеспечивающий первичный объект, от которого можно только получать, но не заботиться ни бессознательно, ни в реальности, он не является отдельной личностью, то рано или поздно, в зависимости от степени освоенности поведенческих паттернов, присущих любовным отношениям, объект любви отказывается от таких отношений. Это безжизненная, картиночная любовь, лишенная чувств. В наиболее мягком варианте, потерявший любовный объект чрезвычайно страдает, в крайних вариантах, ненависть в форме ярости может привести к открытому и немотивированному насилию. Так, один молодой человек считал, что любит свою девушку, она важна для него, только потому, что она у него есть: он может с ней посещать разные мероприятия, иногда заниматься сексом, она поддерживает его, но, если она позвонила не в то время, когда он этого желал, то его посещала крайняя раздражительность, которую приходилось подавлять и под разными предлогами отказываться от разговора. Он упрекал ее во-многом, что она невнимательна к нему, не следует за его желаниями и т.д. Другой молодой человек также считал, что любит свою девушку, они вместе учились, иногда вместе обедали, ходили гулять, многие считали, что они пара. Когда девушка отказалась от «отношений», он пришел к ней домой объясниться, но вместо нее была ее мать, которая получила 23 колото-резаных ран со смертельным исходом.
Следует вновь вспомнить тот факт, что для любви З. Фрейдом указывались биологические источники сексуальных влечений, связанные с возбудимостью эрогенных зон, однако для агрессии таких источников не называлось. Она всегда понималась через оппозицию к либидинальным влечениям. Данные обстоятельства, с одной стороны, объясняют многообразие явлений, сопровождающую любовь, а, с другой, указывают на необходимость рассмотрения ненависти только в связке с процессами развития любовных отношений. Что касается первой стороны, то наличие телесности, конкретных эрогенных зон в либидинальном влечении создает более определенные паттерны переживаемого опыта, начиная от довербальной памяти психосоматического ощущения слияния с объектом, формируют сексуальное желание. Агрессия в своем поведенческом проявлении, начиная с момента рождения, когда «ребенок закричал» и последующем просигнализировал криком о неблагополучии, первоначально не только стоит на службе жизни, но и демонстрирует наличие двух крайних состояний – «удовольствия» и «боли», вокруг которых в последующем группируются либидозные и агрессивные влечения.
Наличие у влечений цели и объекта является ключевым моментом в объединении физического и психического, появлении первых когниций, аффективных структур памяти, создании репрезентаций себя и объектов при переживании этих аффективных состояний, фантазий.
Если вновь обратиться к психоаналитической теории развития, то на первой стадии из физиологически активируемых функций и зон тела, которые могут вовлекаться во взаимодействия младенца с матерью, формируются ранние интрапсихические структуры, относящиеся к симбиотической стадии развития и связанные с переживанием удовольствия-неудовольствия, либидозно стимулируемыми переживаниями и переживаниями депривации, приобретающих смысл любви и ненависти (ярости) по отношению к объекту их вызвавшему. С появлением аффекта ярости как первого аффекта агрессивного влечения с его первоначальной функцией по удалению источника боли или раздражения, а затем препятствий к удовлетворению желаемого создается оппозиция любви и появление аффектов, которые развиваются вокруг реакций ярости. Значение реакции ярости заключается как в активации абсолютно плохих объектных отношений, так и желании устранить их и восстановить абсолютно хорошие. О. Кернберг проводя отличие между яростью, злостью и ненавистью, отмечает варьирующий, временный когнитивный аспект первых и устойчивый, хронический второй. Важнейшей целью человека, захваченного ненавистью, он называет уничтожение своего объекта, специфического объекта бессознательной фантазии и сознательных производных этого объекта. Если ненависть становится укорененной в характере устойчивой и отчетливой особенностью, то она уже отражает психопатологию агрессии. Из наиболее ранних исключительных отношений с кормящей грудью, обладающей всем, что необходимо младенцу, возникают деструктивные импульсы зависти, рядом стоящего с ненавистью агрессивного аффекта. М. Кляйн определила зависть как орально-садистское и анально-садистское выражение деструктивных импульсов, действующих с начала жизни, и имеющих конституциональную основу [12]. В таком контексте зависть отражает активно-агрессивное стремление к экспансии и полновластному обладанию ценностями объекта любви, всем объектом, а ненависть становится защитой от чувства беспомощности и нарциссической ранимости, что по смыслу также соотносится с устранением источника боли. Ограниченный набор когнитивных составляющих аффекта ненависти, его практически не изменяющиеся бессознательные корреляты соответствует сознательным представлениям концепта ненависти. Следует признать, что все последующее развитие так или иначе происходит под эгидой любви: поиск удовольствия, получаемого от функций объекта и любви, когда он становится целостным, сначала пассивного получения, а затем и активного со вступлением в эдипальный период развития. Вероятно, этим объясняется многоликость, сложность конструкции любви и ее понимания. Не вызывает сомнений, что рассматриваемые психоаналитиками процессы развития любви, делают ее движущей силой жизни, отражая ее онтологическую природу. Любовь включает биологическую составляющую (сексуальность), ментальную и социальную (феномен человеческого бытия), проявляясь в полной мере только на самом элементарном уровне объединения раздельных индивидуальностей на службе половой любови.
Возникает основной вопрос: как любовь и ненависть входят в человеческую жизнь на других уровнях ее организации, в другие межличностные отношения, кроме половой любви, парной связи? Наверное, ответ достаточно очевиден, поскольку любовь созидает, создаёт, рождает не только чувства, но и производные от этих чувств – отношения, впрочем, как и ненависть.
Так, следующим уровнем взаимодействия людей являются более или менее организованные сообщества, начиная от комьюнити по месту проживания и до сообщества на уровне региона, от ближайшего окружения по месту работы до профессионального сообщества и т.д. При более или менее длительных контактах внутри таких групп могут возникнуть эротические желания с прямой сексуальной целью, имеющей признаки интимности и страстности. Примером такой любви являются эротизированный перенос в аналитической ситуации, служебный роман в рабочих отношениях и т.д. Такие «сексуальные стремления сохраняют индивидуальную деятельность», как отмечал Фрейд, но неблагоприятны для массы, разрушают ее. «Заторможенные в смысле цели сексуальные влечения имеют большое функциональное преимущество; так как они неспособны к полному удовлетворению, то они особенно пригодны для создания длительных привязанностей». Возникающие привязанности являются проявлением либидинозной организации массы, в которой существуют и другие механизмы эмоциональной привязанности, оказывая благотворное влияние на ее функционирование [24].
Актуализация матрицы либидинозных и агрессивных импульсов, сексуальных влечений в прямом выражении или в заторможенном, защитном варианте является предметом исследования в аналитической ситуации, приобретая формат эротизированного или эротического, позитивного переноса (трансферентной любви) Фрейд определял эротический перенос как манифестацию вытесненных (бессознательных) эротических импульсов и сексуальных фантазий, смещение раннего фрустрированного любовного отношения на фигуру аналитика. Второй тип, позитивный перенос, рассматривался Фрейдом как осознаваемый, хотя и имеющий сублимированные эротические истоки. Фрейд считал, что этот тип переноса необходим для успешного результата анализа, поскольку это основа для взаимоотношений сотрудничества с аналитиком. Психоаналитическое исследование трансферентной любви свидетельствует о наличии всех компонентов обычного процесса влюбленности: проекции на другого (аналитика) зрелых аспектов Эго-идеала; амбивалентного отношения к эдипову объекту; развертывания полиморфных перверзивных инфантильных и генитальных эдиповых желаний и в то же время борьбы против них [11]. Негативный перенос, напротив, основан на ненависти в любой из ее форм, предшественников и дериватов. Очевидно, что существующие в распоряжении индивида способы построения объектных отношений, обращения со своими влечениями, качества и набора аффективных состояний и др., будут участвовать в построении психологии и более широких групп человеческого бытия.
З. Фрейд в своей работе «Психология масс и анализ человеческого Я» детально рассмотрел основные феномены массовой души [24]. Перечислим основные из них:
- появление свойств, которые могут не встречаться у индивида вне группы. К ним относятся чувство принадлежности общности, повышение эффективности, более высокая восприимчивость к внушению, подчинение импульсам, которые побеждают личное, ограничение индивидуального нарциссизма, легкость проявления бессознательного, повышение роли инстинктивной активности снижение ответственности. В целом психика масс часто напоминает психику ребенка, с непереносимостью никакой отсрочки между своим желанием и осуществлением его, снижение критики, отсутствие конфликта между противоречащими тенденциями, мышление не логическое, а картинками, отступление принципа реальности, повышение всех эмоциональных побуждений до крайности, до безграничности, до гиперпреувеличенности. Нивелирование этих проявлений возможно при устойчивой организации массы, с наличием устойчивых связей, понятностью правил функционирования в ней, наличие связей с другими подобными группами, традиций, обычаев.
- потребность в вожде, инстинктивное подчинение лидеру, нетерпимость и доверие к авторитету.
- готовность к ненависти, к агрессивности, происхождение которой неизвестно и которой можно приписать элементарный характер.
- общность индивидов друг с другом в одной группе и резкие отличия от другой рождают почти непреодолимую неприязненность.
- возможность ее разложения, с возникновением паники. Фрейд объясняет ее реакцией на ослабление либидинозной структуры массы, возникающей в условиях сильной внешней опасности, страха и неудовлетворенности либидинозного притязания членов организованной массы. Можно провести и другую аналогию, например, паника в условиях реальной жизнеопасной ситуации или дезинтеграционная тревога, сравнимая с паникой.
Основу жизнеспособности и организованности массы Фрейд видел в привязанности между ее членами, имеющей либидинозное происхождение и составляющей ее сущность, а основным механизмом, ей способствующим называл идентификацию. Термин «масса» носил обобщающий характер, включая различные варианты человеческих сообществ.
Очевидно, что многие описательные элементы массовой психологии могли бы быть раскрыты гораздо шире. Например, объяснение потребности «массы» (в отличие от толпы) как инстинктивной потребности стада во властелине, кажется крайне ограниченной. Если заявленная либидозная по происхождению привязанность к значимому объекту свойственна и необходима человеку с рождения, то и в случае образования комьюнити, она, едва ли может прекратиться. Фактически вождь, лидер, государственная власть могут играть роль эдипального отца, родительской силы. Достаточно вспомнить, что на Руси Царя называли батюшкой-Царем, отцом. Сценарии, разыгрывающиеся в этих случаях в младенчестве, раннем детстве, вполне воспроизводимы во взаимоотношении массы и государства, ее руководителя. Так, отсутствие внимания со стороны первых на потребности масс, что неизбежно порождает ненависть с различными вариантами ее выражения. Если, вспомнить пресловутые 90-е годы, то ее было в избытке, включая открытое проявление агрессии, массовый алкоголизм как скрытую форму агрессии. Обесценивание власти и беспомощность перед ней не только смещает агрессию на другие объекты, но и выражается, например, в игнорировании институтов власти, отказа от голосования и т.д.
З. Фрейд приводит примеры лидинозной основы внутри искусственно организованной массы, в частности, церкви, состоящей из любви к вождю (Христос, Бог) и любви к остальным индивидам, входящим в массу. Однако, необходимо отметить не менее важный аспект такой группы. Можно предположить, что религия, церковь являлась необходимым этапом развития человеческого общества, поскольку давала четкие инструкции по жизнедеятельности, избегая требований к наличию интроецированных норм, ценностей, личностной идентичности в целом. Недостаточная идентичность группы, ее жизненности, либидинозности порождает потребность в нарциссических защитах, прежде всего от всеобъемлющей зависти к другим группам, актуализируя агрессивные влечения. В любом случае, утверждение Фрейда о наличии либидинозной основы в объединении группы, удовлетворенности либидинозных притязаний в ее поддержании и легкость возникновения ненависти при их нивелировании остается неизменной.
Можно ли говорить о психологии группы как об отдельном феномене или она отражает сумму индивидуальных психологий? Как связаны индивидуальные особенности любви у членов группы и всей группы, от чего зависит динамика любви и ненависти внутри группы и всей группы по отношению к другим группам? Вероятно, законы относительно любви и ненависти, присущие индивидуальной психике, найдут отражение и в групповой динамике. В целом можно констатировать, что существует огромное поле для дальнейших исследований.