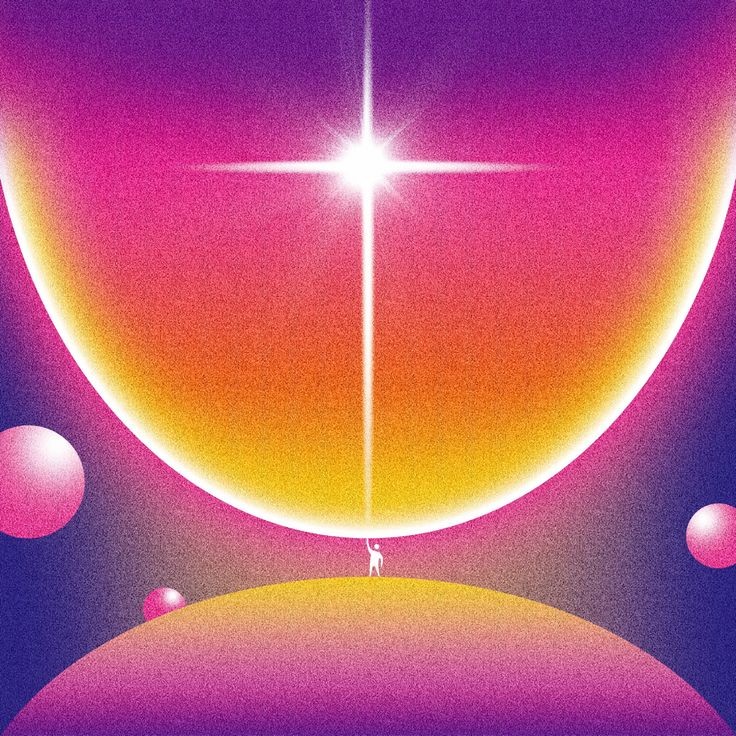Истоки любви и ненависти в психоанализе
Автор: Безруких А.В.
Общеизвестно, что люди полагают целью и смыслом жизни достижение счастья, они стремятся к счастью. В узком смысле слова под «счастьем» понимается переживание сильного чувства удовольствия, что накрепко связано с половой любовью. Согласно Фрейду, цель жизни просто задана принципом удовольствия. Но все же, программа принципа удовольствия вступает в противоречие со всем миром, она вообще неосуществима: «ей противостоит все устройство Вселенной: можно сказать, что намерение «осчастливить» человека не входит в планы «творения». Счастью людей противостоит страдание, источниками которого являются: природные стихии, болезни и старение тела, несовершенство учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе. Чтобы преодолеть природные стихии люди объединяются и трудятся вместе, они используют наркотики, чтобы ослабить боль, уединяются, чтобы избежать горечи взаимоотношений, достигают контроля над влечениями (как учит восточная мудрость), защищаются путем погружения в массовые иллюзии, наиболее ярким примером которых является религия, иногда сублимируют влечения посредством занятий науками, искусством и наслаждения красотой. Все это окольные пути достижения счастья, но, увы, ни на одном из них, по мнению Фрейда, не удается достигнуть желанного результата. Любой результат разочаровывает, и даже любовь может принести страдания и разочарование. Таким образом: «Счастье - в том умеренном смысле, в каком мы можем признать его возможным, - есть проблема индивидуальной экономии либидо.
Зигмунд Фрейд, влечения
Фрейд дает понятие «любви»: «Любовью называют отношения между мужчиной и женщиной, создавших семью для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но любовь - это и добрые чувства между родителями и детьми, братьями и сестрами, хотя такие отношения следовало бы обозначать как заторможенную по цели любовь или нежность. Заторможенная по цели любовь первоначально была вполне чувственной - в бессознательном она таковой остается и поныне. Психоанализ показал, что психической жизнью человека управляют две силы - любовь и ненависть. Оппозиция любви и ненависти в психоанализе характеризуется понятием амбивалентности, которое означает противоположность установок и чувств, направленных на один объект. Данное понятие введено в научный оборот швейцарским психиатром Блейлером, который считал амбивалентность одним из главных симптомов шизофрении, характеризующейся расщепленностью сознания субъекта в результате его противоречивого отношения к объекту. Блейлер считал, что противоположность чувств и установок может наблюдаться не только у шизофреников, но и у нормальных людей. Фрейд рассматривал амбивалентность как введенное Блейлером удачное название противоположных влечений, часто проявляющихся у человека в форме любви и ненависти к одному и тому же сексуальному объекту. Понятие амбивалентности используется в психоанализе в очень широком смысле, обозначая действия и чувства, обусловленные защитным конфликтом между несоизмеримыми побуждениями. То, что приятно для одной психической инстанции, зачастую оказывается неприятным для другой, таким образом, амбивалентным можно назвать любое «компромиссное образование». Амбивалентность характеризует ряд расстройств: психозы, неврозы навязчивых состояний, ряд состояний (ревность, скорбь), а также фазы либидинального развития. З. Фрейд в работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) писал о противоположных влечениях, объединенных в пару и относящихся к сексуальной деятельности человека. В «Анализе фобии пятилетнего мальчика» (1909) Фрейд отмечал, что у детей любовь и ненависть могут долгое время сосуществовать друг с другом, как это наблюдалось, например, у маленького Ганса, который одновременно любил своего отца и желал его смерти. Как показал Фрейд, при фобиях (навязчивых страхах конкретного содержания) ненависть, как одно из амбивалентных чувств, противоположных любви, переносится на замещающий объект. В неврозе навязчивых состояний (случай Человека с крысами), Фрейд так же выявил взаимосвязь любви и ненависти, которую позже описал как «конфликт амбивалентности». К тому же конфликт «любовь - ненависть» и эдипальный конфликт здесь тесно переплелись, образовав почти нераспутываемый клубок, что характеризует невроз навязчивости и его симптомы. В работе «Влечения и их судьба» Фрейд говорил об амбивалентности в связи с противоположностью активности и пассивности. В этом тексте видно более «вещественное» противопоставление любви и ненависти, позволяющее выявить амбивалентность более четко. Фрейд говорит в связи с амбивалентностью об основополагающем дуализме влечений. Тогда амбивалентность любви и ненависти можно будет объяснить особенностями их становления, усматривая источник ненависти во влечениях к самосохранению (ее прообразом выступает борьба Я за самосохранение и самоутверждение), а источник любви - в сексуальных влечениях. Понятие амбивалентности использовалось Фрейдом и при рассмотрении такого явления, как перенос, с которым приходится иметь дело аналитику в процессе анализа. Во многих работах он подчеркивал двойственный характер переноса, имеющего позитивную и негативную направленность. В частности, в написанной в конце жизни и опубликованной после его смерти работе «Очерк о психоанализе» (1940) Фрейд подчеркивал, что «перенос амбивалентен: он включает в себя как положительную (дружелюбную), так и отрицательную (враждебную) позиции в отношении психоаналитика».
Когда же появляется любовь и ненависть?
Исследуя превращение содержания влечения в противоположное, Фрейд говорит, что случай любви и ненависти не подходит под картину описания влечений. Существует теснейшая связь между этими двумя противоположными чувствами и сексуальной жизнью, но нельзя согласиться со взглядом на способность любить, как на особое частичное влечение, подобное другим влечениям. Скорее всего, полагает Фрейд, в способности любить выражается все сексуальное стремление полностью, но сложно понять, как сюда вписывается ненависть - материальная противоположность этого стремления.
Изучая превратности любви и ненависти, Фрейд говорит о том, что любовь может иметь не одну, а три противоположности: любить - ненавидеть, любить - быть любимым, и, кроме того, «любить» и «ненавидеть», вместе взятые, противопоставляются еще состоянию индифферентности или равнодушия. Чтобы легче понять происхождение различных противоположных значения «любить», он исходил из трех полярностей, управляющих душевной жизнью человека: Я - не Я (или полярность субъект - объект), зависящая от того имеет возбуждение, достигающее Я, внешнее или внутреннее происхождение; полярность удовольствие - неудовольствие, зависящая от качеств ощущений; полярность активное - пассивное, относимое Фрейдом к мужскому и женскому.
В начале душевной жизни Я полностью находится под властью влечений и отчасти само их удовлетворяет. Это состояние называется первичным нарциссизмом, при котором Я не нуждается во внешнем мире, поскольку оно аутоэротично: «В то время Я-субъект совпадает таким образом с тем, что дает наслаждение, внешний мир - с безразличным (иногда и неприятным как источником раздражения)». В дальнейшем, поскольку Я не может избежать неприятных внутренних раздражений, например, чувства голода, оно вынуждено обращаться на объекты внешнего мира. Воздействие, которое эти объекты оказывают на Я, осуществляет фундаментальную перестройку в соответствие с полярностью удовольствия - неудовольствия: «Оно воспринимает в себя предлагаемые объекты, поскольку они являются источниками наслаждения, интроецирует их в себя (по выражению Ференци), а с другой стороны, отталкивает от себя все, что внутри него становится поводом к переживанию неудовольствия». Вслед за тем происходит первичное деление Я, но это уже не простое деление между внутренним Я-субъектом и внешним (безразличным, неприятным), а между Я-наслаждением, которое включает в себя объекты, инкорпорированные из внешнего мира, приносящие удовольствие, и внешним миром, который становится источником неудовольствия, так как воспринимается как чуждый: «Таким образом, оно из первоначального реального Я (Real-Ich), различавшего внутреннее и внешнее на основании объективного признака, превращается в чистейшее наслаждающееся Я (Lust-Ich), для которого признак наслаждения выше всего. Внешний мир распадается для него на часть, доставляющую наслаждение, которую оно восприняло в себя, и на остаток, чуждый ему. Из собственного Я оно отделило часть, которую отбрасывает во внешний мир и ощущает его как враждебный». В фазе первичного нарциссизма начинает развиваться вторая противоположность любви - ненависть. Поскольку объект вместе с влечениями к самосохранению приходит из внешнего мира, то первоначальный смысл ненависти выражает отношение к внешнему миру, который несет неприятные раздражения, причем безразличие подчиняется ненависти. Следовательно, когда объект становится источником наслаждения, тогда проявляется такая ситуация, которая притягивает объект к Я, совмещая его с Я и мы говорим, что любим этот объект. И наоборот, когда он становится источником неудовольствия, то появляется потребность отдалиться, оттолкнуть его и мы говорим о ненависти к этому объекту. Изучение оборотов нашей речи показывает, что невозможно сказать про некое влечение, что оно «любит» или «ненавидит» объект, поэтому в терминах отношений любовь и ненависть нельзя применить к отношениям влечений к своим объектам, а только к отношению всего Я к объектам. По отношению к объектам, служащим для самосохранения Я (к пище и т.п.) мы используем слова «я ценю» или «мне нравиться». Каков же смысл понятия любви, когда она достигла своего полного развития? Фрейд утверждает, что любовь появляется на генитальной фазе, когда происходит синтез частичных влечений в Я: «Если у нас нет привычки говорить, что отдельное сексуальное влечение любит свой объект, но находим самое большое соответствие в употреблении слова «любить» для обозначения отношений Я к своему сексуальному объекту, то наблюдение показывает нам, что применение этого слова для обозначения этих отношений начинается только с момента синтеза всех частичных влечений сексуальности под приматом гениталий и в целях функции продолжения рода». При употреблении слова ненависть не проявляется близкой связи с сексуальным влечением, а решающее значение имеет, вероятно, отношение неприятного или неудовольствия. По мысли Фрейда, источник ненависти, скорее следует искать в борьбе Я за самосохранение, т.е. в ненависти, испытываемой к объекту, который не удовлетворяет влечения самосохранения. Рассуждая о происхождении любви и ненависти, Фрейд полагает, что они появились не из расщепления чего-то, изначально целого, а имеют различное происхождение и до того, как стать противоположностью, каждое из этих чувств, прошло свой путь развития. Первоначально, говорит нам Фрейд, Я способно частично удовлетворить свои влечения аутоэротически и любовь, следовательно, нарциссична. В дальнейшем она обращается на объекты: «Первоначально она нарциссична, затем переходит на объекты, которые сливаются с расширенным «Я», и выражает в виде источника наслаждения моторное стремление «Я» к этим объектам». Одновременно с развитием сексуальных влечений, любовь проходит предварительные фазы, начиная с первой ее цели - поглотить, когда ребенок не знает, разрушает ли он объект своей любовью или ненавистью. Затем следует прегенитальная анально-садистическая фаза, где отношение к объекту проявляется в форме стремления к овладению, которому безразлично, будет ли при этом поврежден или уничтожен объект. Эту форму предварительной ступени любви вряд ли можно отличить по ее отношениям к объекту от ненависти. Затем приходит пора становления генитальной организации и только при ее формировании любовь становится противоположностью ненависти. Из этой логики Фрейд выводит, что ненависть старше любви, так как «она соответствует самому первоначальному отстранению нарциссическим «Я» внешнего мира, доставляющего раздражения». Любовь появляется позднее, когда преодолена фаза первичного нарциссизма и либидо устремляется к объектам. Именно это объясняет природу амбивалентности, где любовь сопровождается ненавистью по отношению к одному и тому же объекту. «Примесь ненависти в любви отчасти происходит от не вполне преодоленной предварительной ступени любви, отчасти она вытекает из реакций отклонения этого чувства со стороны влечений Я, которые могут оправдываться реальными и актуальными мотивами при столь частых конфликтах между интересами Я и любви. В обоих случаях, следовательно, примесь ненависти исходит из источников влечений к самосохранению. Если любовные отношения к какому-нибудь объекту обрываются, то нередко вместо них появляется ненависть, отчего у нас получается впечатление превращения любви в ненависть. Но более широкий, чем описанный, взгляд обнаруживает, что мотивированная реальными причинами ненависть усиливается еще вследствие регрессии любви на предварительную садистическую ступень, так что ненависть получает эротический характер и создается, таким образом, нерушимость любовных отношений». В тексте «По ту сторону принципа удовольствия» он производит реконструкцию метапсихологической системы и вводит новый способ описания психического аппарата. Фрейд предлагает новую гипотезу: психическое функционирование человека управляется конфликтом более глубоким, нежели принцип удовольствия, фундаментальным конфликтом между влечением к жизни и влечением к смерти. В связи с новыми открытиями, Фрейд стал придавать еще большее значение аффектам любви - ненависти, объектным отношениям, процессам идентификации, бессознательному чувству вины, страху и переживанию горя. Фрейд задается вопросом: можно ли установить параллель между оппозицией влечений к жизни - влечений к смерти и оппозицией любовь (нежность) и ненависть (агрессивность)? Однако уже известно, что садистский компонент присутствует в сексуальном влечении и может стать самостоятельным и главенствовать в качестве извращения всего сексуального влечения. Но так как садистское влечение направлено на причинение вреда объекту, то как его можно отнести к Эросу, поддерживающему жизнь? Фрейд делает предположение: «что этот садизм есть, собственно, влечение к смерти, которое оттеснено от «Я» влиянием нарциссического либидо, так что оно проявляется лишь направленным на объект и тогда оно начинает обслуживать сексуальную функцию. Оттесненный из «Я» садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения, именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с ними, получается амбивалентность любви - ненависти в любовной жизни». Но садизм невозможен без мазохизма, который следует понимать, как обращенный на собственное «Я» садизм. Тогда мазохизм - это агрессивное и разрушительное влечение, оборачивающееся против собственного Я - может быть возвращено к более ранней фазе, что предполагает, вероятно, существование первичного мазохизма. В тексте «Я и Оно» Фрейд продолжает свои размышления о двух видах первичных влечений. Он различает два вида первичных влечений, из которых один - сексуальные влечения, или Эрос, который «охватывает не только непосредственное безудержное сексуальное первичное влечение и исходящие от него сублимированные движения первичного влечения, но и влечения самосохранения. Фрейд высказывает гипотезу, что эти два рода влечений способны соединяться и распадаться в разных пропорциях. Если мы представляем себе союз влечений к жизни и влечений к смерти, то можем представить себе более или менее их распад на первоначальные. Тогда садистический компонент сексуального первичного влечения является классическим примером смешения первичных влечений, в ставшем самостоятельным садизме, в качестве извращения. Фрейд считает, что возврат либидо к анально-садистической фазе зиждется на подобном распаде союза влечений, в то время как развитие от ранней к окончательной генитальной фазе основывается на господстве эротической составляющей влечения к жизни над влечением к смерти. Фрейд снова пытается осмыслить вопрос: можно ли объяснить оппозицию между двумя родами влечений в терминах полярности любви и ненависти. Пытаясь разглядеть превращения любви в ненависть и наоборот, Фрейд постулирует вмешательство: «способной к смещению энергии, которая сама по себе индифферентная, и которая может примкнуть к качественно-дифференцированному эротическому или разрушительному импульсу и его повысить». Ее источник - запас нарциссического либидо, присутствующий в десексуализированном Эросе. Фрейд рассматривает взаимоотношений инстанций Я, Оно и Сверх-Я и сравнивает Я со слугой трех господ: Я угрожают три опасности: одна происходит из внешнего мира, вторая из либидо Оно и третья - со стороны Сверх-Я. «Оно», считает Фрейд, не обладает средствами доказать «Я» любовь или ненависть. «Оно не может выразить, чего хочет; оно не выработало единой воли. В нем борются Эрос и влечение смерти». Таким образом, Сверх-Я оказывается той инстанцией, которая отражает любовь или ненависть к «Я».
Мелани Кляйн. Вина, репарация и идентификация
Представитель психоанализа, М. Кляйн истоки всей психической жизни взрослого человека усматривает в детском развитии, начиная с раннего младенческого возраста. Соответственно этому, анализируя в работе «Любовь, вина и репарация» отношения взрослых индивидов, М. Кляйн постоянно ссылается на опыт ранних объектных отношений младенца. Ранние объектные отношения определяют выбор, успешность и/или трудности всех последующих отношений. М. Кляйн показала, что агрессивные чувства (ненависть, ревность, зависть), направленные на объект, крайне неприятны для самого субъекта. Человек стремится преодолеть свои деструктивные побуждения ради другого чувства - любви. Понимание любви как человеческой эмоции, согласно М. Кляйн, невозможно без включения в психическую жизнь агрессии. Наряду с любовью, у младенца имеется еще один врожденный импульс – ненависть. Любовь и ненависть – две фундаментальные одинаково всемогущие силы. С агрессивными импульсами и фантазиями, виной и страхом смерти тесно связаны сексуальные желания. Уже у младенца оба исходных импульса проявляются в объектных отношениях с материнской грудью как первым частичным объектом. Первичные импульсы любви и ненависти имеют большое развивающее значение для психики. С восприятием матери как целостного объекта трансформируются его любовь и ненависть. Собственный садизм (фантазии все также слиты с реальностью) становится непереносим из-за то, что он сам уничтожает объект своей любви, причиняет ему огромное зло. Во-первых, возникает страх утратить любимый объект. Ребенок в своих всемогущих фантазиях стремится возместить «нанесенный ущерб», восстановить объект. Возникает потребность заботиться, оберегать. Наряду с фантазийными ребенок научается проявлять реальные любовь и заботу. Это и есть, по М. Кляйн, феномен репарации. Именно он имеет огромное значение для психического развития, развивается способность наблюдать другого человека, сострадать его переживаниям, воспринимая его как отдельную личность.
Вина, особенно по отношению к тем, кого человек любит, является очень тягостным, болезненным чувством, поэтому она вытесняется в бессознательные структуры. Примерами проявления бессознательного чувства вины могут быть: недовольство собой без достаточных к тому оснований (комплекс неполноценности); подозрительность в неуважении со стороны некоторых людей; чрезмерная потребность в признательности и подтверждении своей хорошести от других людей; сомнения в своей способности любить, однако страх и вина играют положительную роль как в цепочке «ненависть-любовь», так и в процессе репарации. Вина за собственные деструктивные побуждения сопряжена с ответственностью, желанием заботиться, основанной на понимании неправильности причинения вреда другому человеку. Вина в этом понимании становится компонентом любви.
Помимо вины М. Кляйн находит в процессе репарации еще один важный феномен - идентификацию - умение ставить себя на место другого человека, понимать его интересы, переживания, потребности. Идентифицируя себя с объектом любви, субъект играет роль хорошего родителя, ведя себя так, как заботливая мать вела себя по отношению к нему самому в реальности или в фантазиях. Одновременно субъект играет роль хорошего ребенка, испытывающего благодарность в ответ на заботу; это дает ему удовлетворение от своей хорошести, ощущение безопасности и спокойствия. Рассуждения М. Кляйн о счастливых любовных отношениях представляются очень актуальными в условиях современной дестабилизации семьи и брака, роста числа разводов, повышения уровня супружеской конфликтности, большого числа людей, неудовлетворенных браком. Несомненно, во все времена, в т. ч. и во времена творчества М. Кляйн, существовали эмоциональные проблемы, непонимание и отчуждение между партнерами. Повышение значимости межличностных аспектов супружеских отношений как приоритетного смысла брака (в противовес традиционному экономическому смыслу) актуализирует интерес современных исследователей к эмоциональным аспектам взаимоотношений любовных партнеров. Согласно М. Кляйн, счастливые любовные отношения в браке включают глубокую привязанность, способность к взаимным жертвам, умение разделять радостные и горестные переживания, а также сексуальное наслаждение. Компоненты счастливых любовных отношений для женщины: а) материнские переживания по отношению к мужу как к своему ребенку; б) детское переживания к мужу как отцовской фигуре – восхищение им, ожидание защиты. Важна успешная репарация деструктивных импульсов по отношению к гениталиям отца (фантазии исцелительной природы отцовских гениталий связаны с развитием сексуальности, преодолением страха и вины садистических желаний). Детская репарация по отношению к матери позволяет взрослой женщине без вины занимать место рядом с мужем. На эмоциональность и сексуальность мужчины влияет репарация садистических фантазий о причинение боли и разрушения матери с помощью пениса; репарация побуждений уничтожить отца-соперника в обладании матерью, которые вызывают страх деструкции собственного пениса. Счастливые сексуальные отношения для мужчины предоставляют ему доказательство хорошести своего пениса; удовлетворенность повышается за счет удовлетворения желания делать для своей жены то, что отец делал для матери. Если жена разделяет, уважает, понимает интересы мужа, восхищается ими, это повышает его творческую реализацию, дает ощущение того, что он стал взрослым, равным отцу. В счастливых любовных отношениях осуществляется не до конца преодоленная эдипальная бессознательная фантазия стать равными родителям, занять их место. Такая фантазия и у взрослых индивидов бессознательно активна. Как отмечает М. Кляйн, в удовлетворяющих любовных и сексуальных отношениях партнеры переживают счастливое воссоздание их ранней жизни в семье, только еще более совершенные, поскольку они лишены чувства вины. Успешное преодоление вины за садистические фантазии по отношению к родителям - важное условие для последующего обретения гармонии в своих партнерских отношениях. Только тогда возможно перенесение инфантильных желаний на другие объекты. Взрослые взаимоотношения любящих друг друга партнеров всегда содержат новые элементы, которые не встречались в родительской семье.
Автор: Безруких А.В.
Общеизвестно, что люди полагают целью и смыслом жизни достижение счастья, они стремятся к счастью. В узком смысле слова под «счастьем» понимается переживание сильного чувства удовольствия, что накрепко связано с половой любовью. Согласно Фрейду, цель жизни просто задана принципом удовольствия. Но все же, программа принципа удовольствия вступает в противоречие со всем миром, она вообще неосуществима: «ей противостоит все устройство Вселенной: можно сказать, что намерение «осчастливить» человека не входит в планы «творения». Счастью людей противостоит страдание, источниками которого являются: природные стихии, болезни и старение тела, несовершенство учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе. Чтобы преодолеть природные стихии люди объединяются и трудятся вместе, они используют наркотики, чтобы ослабить боль, уединяются, чтобы избежать горечи взаимоотношений, достигают контроля над влечениями (как учит восточная мудрость), защищаются путем погружения в массовые иллюзии, наиболее ярким примером которых является религия, иногда сублимируют влечения посредством занятий науками, искусством и наслаждения красотой. Все это окольные пути достижения счастья, но, увы, ни на одном из них, по мнению Фрейда, не удается достигнуть желанного результата. Любой результат разочаровывает, и даже любовь может принести страдания и разочарование. Таким образом: «Счастье - в том умеренном смысле, в каком мы можем признать его возможным, - есть проблема индивидуальной экономии либидо.
Зигмунд Фрейд, влечения
Фрейд дает понятие «любви»: «Любовью называют отношения между мужчиной и женщиной, создавших семью для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но любовь - это и добрые чувства между родителями и детьми, братьями и сестрами, хотя такие отношения следовало бы обозначать как заторможенную по цели любовь или нежность. Заторможенная по цели любовь первоначально была вполне чувственной - в бессознательном она таковой остается и поныне. Психоанализ показал, что психической жизнью человека управляют две силы - любовь и ненависть. Оппозиция любви и ненависти в психоанализе характеризуется понятием амбивалентности, которое означает противоположность установок и чувств, направленных на один объект. Данное понятие введено в научный оборот швейцарским психиатром Блейлером, который считал амбивалентность одним из главных симптомов шизофрении, характеризующейся расщепленностью сознания субъекта в результате его противоречивого отношения к объекту. Блейлер считал, что противоположность чувств и установок может наблюдаться не только у шизофреников, но и у нормальных людей. Фрейд рассматривал амбивалентность как введенное Блейлером удачное название противоположных влечений, часто проявляющихся у человека в форме любви и ненависти к одному и тому же сексуальному объекту. Понятие амбивалентности используется в психоанализе в очень широком смысле, обозначая действия и чувства, обусловленные защитным конфликтом между несоизмеримыми побуждениями. То, что приятно для одной психической инстанции, зачастую оказывается неприятным для другой, таким образом, амбивалентным можно назвать любое «компромиссное образование». Амбивалентность характеризует ряд расстройств: психозы, неврозы навязчивых состояний, ряд состояний (ревность, скорбь), а также фазы либидинального развития. З. Фрейд в работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) писал о противоположных влечениях, объединенных в пару и относящихся к сексуальной деятельности человека. В «Анализе фобии пятилетнего мальчика» (1909) Фрейд отмечал, что у детей любовь и ненависть могут долгое время сосуществовать друг с другом, как это наблюдалось, например, у маленького Ганса, который одновременно любил своего отца и желал его смерти. Как показал Фрейд, при фобиях (навязчивых страхах конкретного содержания) ненависть, как одно из амбивалентных чувств, противоположных любви, переносится на замещающий объект. В неврозе навязчивых состояний (случай Человека с крысами), Фрейд так же выявил взаимосвязь любви и ненависти, которую позже описал как «конфликт амбивалентности». К тому же конфликт «любовь - ненависть» и эдипальный конфликт здесь тесно переплелись, образовав почти нераспутываемый клубок, что характеризует невроз навязчивости и его симптомы. В работе «Влечения и их судьба» Фрейд говорил об амбивалентности в связи с противоположностью активности и пассивности. В этом тексте видно более «вещественное» противопоставление любви и ненависти, позволяющее выявить амбивалентность более четко. Фрейд говорит в связи с амбивалентностью об основополагающем дуализме влечений. Тогда амбивалентность любви и ненависти можно будет объяснить особенностями их становления, усматривая источник ненависти во влечениях к самосохранению (ее прообразом выступает борьба Я за самосохранение и самоутверждение), а источник любви - в сексуальных влечениях. Понятие амбивалентности использовалось Фрейдом и при рассмотрении такого явления, как перенос, с которым приходится иметь дело аналитику в процессе анализа. Во многих работах он подчеркивал двойственный характер переноса, имеющего позитивную и негативную направленность. В частности, в написанной в конце жизни и опубликованной после его смерти работе «Очерк о психоанализе» (1940) Фрейд подчеркивал, что «перенос амбивалентен: он включает в себя как положительную (дружелюбную), так и отрицательную (враждебную) позиции в отношении психоаналитика».
Когда же появляется любовь и ненависть?
Исследуя превращение содержания влечения в противоположное, Фрейд говорит, что случай любви и ненависти не подходит под картину описания влечений. Существует теснейшая связь между этими двумя противоположными чувствами и сексуальной жизнью, но нельзя согласиться со взглядом на способность любить, как на особое частичное влечение, подобное другим влечениям. Скорее всего, полагает Фрейд, в способности любить выражается все сексуальное стремление полностью, но сложно понять, как сюда вписывается ненависть - материальная противоположность этого стремления.
Изучая превратности любви и ненависти, Фрейд говорит о том, что любовь может иметь не одну, а три противоположности: любить - ненавидеть, любить - быть любимым, и, кроме того, «любить» и «ненавидеть», вместе взятые, противопоставляются еще состоянию индифферентности или равнодушия. Чтобы легче понять происхождение различных противоположных значения «любить», он исходил из трех полярностей, управляющих душевной жизнью человека: Я - не Я (или полярность субъект - объект), зависящая от того имеет возбуждение, достигающее Я, внешнее или внутреннее происхождение; полярность удовольствие - неудовольствие, зависящая от качеств ощущений; полярность активное - пассивное, относимое Фрейдом к мужскому и женскому.
В начале душевной жизни Я полностью находится под властью влечений и отчасти само их удовлетворяет. Это состояние называется первичным нарциссизмом, при котором Я не нуждается во внешнем мире, поскольку оно аутоэротично: «В то время Я-субъект совпадает таким образом с тем, что дает наслаждение, внешний мир - с безразличным (иногда и неприятным как источником раздражения)». В дальнейшем, поскольку Я не может избежать неприятных внутренних раздражений, например, чувства голода, оно вынуждено обращаться на объекты внешнего мира. Воздействие, которое эти объекты оказывают на Я, осуществляет фундаментальную перестройку в соответствие с полярностью удовольствия - неудовольствия: «Оно воспринимает в себя предлагаемые объекты, поскольку они являются источниками наслаждения, интроецирует их в себя (по выражению Ференци), а с другой стороны, отталкивает от себя все, что внутри него становится поводом к переживанию неудовольствия». Вслед за тем происходит первичное деление Я, но это уже не простое деление между внутренним Я-субъектом и внешним (безразличным, неприятным), а между Я-наслаждением, которое включает в себя объекты, инкорпорированные из внешнего мира, приносящие удовольствие, и внешним миром, который становится источником неудовольствия, так как воспринимается как чуждый: «Таким образом, оно из первоначального реального Я (Real-Ich), различавшего внутреннее и внешнее на основании объективного признака, превращается в чистейшее наслаждающееся Я (Lust-Ich), для которого признак наслаждения выше всего. Внешний мир распадается для него на часть, доставляющую наслаждение, которую оно восприняло в себя, и на остаток, чуждый ему. Из собственного Я оно отделило часть, которую отбрасывает во внешний мир и ощущает его как враждебный». В фазе первичного нарциссизма начинает развиваться вторая противоположность любви - ненависть. Поскольку объект вместе с влечениями к самосохранению приходит из внешнего мира, то первоначальный смысл ненависти выражает отношение к внешнему миру, который несет неприятные раздражения, причем безразличие подчиняется ненависти. Следовательно, когда объект становится источником наслаждения, тогда проявляется такая ситуация, которая притягивает объект к Я, совмещая его с Я и мы говорим, что любим этот объект. И наоборот, когда он становится источником неудовольствия, то появляется потребность отдалиться, оттолкнуть его и мы говорим о ненависти к этому объекту. Изучение оборотов нашей речи показывает, что невозможно сказать про некое влечение, что оно «любит» или «ненавидит» объект, поэтому в терминах отношений любовь и ненависть нельзя применить к отношениям влечений к своим объектам, а только к отношению всего Я к объектам. По отношению к объектам, служащим для самосохранения Я (к пище и т.п.) мы используем слова «я ценю» или «мне нравиться». Каков же смысл понятия любви, когда она достигла своего полного развития? Фрейд утверждает, что любовь появляется на генитальной фазе, когда происходит синтез частичных влечений в Я: «Если у нас нет привычки говорить, что отдельное сексуальное влечение любит свой объект, но находим самое большое соответствие в употреблении слова «любить» для обозначения отношений Я к своему сексуальному объекту, то наблюдение показывает нам, что применение этого слова для обозначения этих отношений начинается только с момента синтеза всех частичных влечений сексуальности под приматом гениталий и в целях функции продолжения рода». При употреблении слова ненависть не проявляется близкой связи с сексуальным влечением, а решающее значение имеет, вероятно, отношение неприятного или неудовольствия. По мысли Фрейда, источник ненависти, скорее следует искать в борьбе Я за самосохранение, т.е. в ненависти, испытываемой к объекту, который не удовлетворяет влечения самосохранения. Рассуждая о происхождении любви и ненависти, Фрейд полагает, что они появились не из расщепления чего-то, изначально целого, а имеют различное происхождение и до того, как стать противоположностью, каждое из этих чувств, прошло свой путь развития. Первоначально, говорит нам Фрейд, Я способно частично удовлетворить свои влечения аутоэротически и любовь, следовательно, нарциссична. В дальнейшем она обращается на объекты: «Первоначально она нарциссична, затем переходит на объекты, которые сливаются с расширенным «Я», и выражает в виде источника наслаждения моторное стремление «Я» к этим объектам». Одновременно с развитием сексуальных влечений, любовь проходит предварительные фазы, начиная с первой ее цели - поглотить, когда ребенок не знает, разрушает ли он объект своей любовью или ненавистью. Затем следует прегенитальная анально-садистическая фаза, где отношение к объекту проявляется в форме стремления к овладению, которому безразлично, будет ли при этом поврежден или уничтожен объект. Эту форму предварительной ступени любви вряд ли можно отличить по ее отношениям к объекту от ненависти. Затем приходит пора становления генитальной организации и только при ее формировании любовь становится противоположностью ненависти. Из этой логики Фрейд выводит, что ненависть старше любви, так как «она соответствует самому первоначальному отстранению нарциссическим «Я» внешнего мира, доставляющего раздражения». Любовь появляется позднее, когда преодолена фаза первичного нарциссизма и либидо устремляется к объектам. Именно это объясняет природу амбивалентности, где любовь сопровождается ненавистью по отношению к одному и тому же объекту. «Примесь ненависти в любви отчасти происходит от не вполне преодоленной предварительной ступени любви, отчасти она вытекает из реакций отклонения этого чувства со стороны влечений Я, которые могут оправдываться реальными и актуальными мотивами при столь частых конфликтах между интересами Я и любви. В обоих случаях, следовательно, примесь ненависти исходит из источников влечений к самосохранению. Если любовные отношения к какому-нибудь объекту обрываются, то нередко вместо них появляется ненависть, отчего у нас получается впечатление превращения любви в ненависть. Но более широкий, чем описанный, взгляд обнаруживает, что мотивированная реальными причинами ненависть усиливается еще вследствие регрессии любви на предварительную садистическую ступень, так что ненависть получает эротический характер и создается, таким образом, нерушимость любовных отношений». В тексте «По ту сторону принципа удовольствия» он производит реконструкцию метапсихологической системы и вводит новый способ описания психического аппарата. Фрейд предлагает новую гипотезу: психическое функционирование человека управляется конфликтом более глубоким, нежели принцип удовольствия, фундаментальным конфликтом между влечением к жизни и влечением к смерти. В связи с новыми открытиями, Фрейд стал придавать еще большее значение аффектам любви - ненависти, объектным отношениям, процессам идентификации, бессознательному чувству вины, страху и переживанию горя. Фрейд задается вопросом: можно ли установить параллель между оппозицией влечений к жизни - влечений к смерти и оппозицией любовь (нежность) и ненависть (агрессивность)? Однако уже известно, что садистский компонент присутствует в сексуальном влечении и может стать самостоятельным и главенствовать в качестве извращения всего сексуального влечения. Но так как садистское влечение направлено на причинение вреда объекту, то как его можно отнести к Эросу, поддерживающему жизнь? Фрейд делает предположение: «что этот садизм есть, собственно, влечение к смерти, которое оттеснено от «Я» влиянием нарциссического либидо, так что оно проявляется лишь направленным на объект и тогда оно начинает обслуживать сексуальную функцию. Оттесненный из «Я» садизм открыл путь либидозным компонентам сексуального влечения, именно потому они начинают стремиться к объекту. Там, где первоначальный садизм не умеряется и не сливается с ними, получается амбивалентность любви - ненависти в любовной жизни». Но садизм невозможен без мазохизма, который следует понимать, как обращенный на собственное «Я» садизм. Тогда мазохизм - это агрессивное и разрушительное влечение, оборачивающееся против собственного Я - может быть возвращено к более ранней фазе, что предполагает, вероятно, существование первичного мазохизма. В тексте «Я и Оно» Фрейд продолжает свои размышления о двух видах первичных влечений. Он различает два вида первичных влечений, из которых один - сексуальные влечения, или Эрос, который «охватывает не только непосредственное безудержное сексуальное первичное влечение и исходящие от него сублимированные движения первичного влечения, но и влечения самосохранения. Фрейд высказывает гипотезу, что эти два рода влечений способны соединяться и распадаться в разных пропорциях. Если мы представляем себе союз влечений к жизни и влечений к смерти, то можем представить себе более или менее их распад на первоначальные. Тогда садистический компонент сексуального первичного влечения является классическим примером смешения первичных влечений, в ставшем самостоятельным садизме, в качестве извращения. Фрейд считает, что возврат либидо к анально-садистической фазе зиждется на подобном распаде союза влечений, в то время как развитие от ранней к окончательной генитальной фазе основывается на господстве эротической составляющей влечения к жизни над влечением к смерти. Фрейд снова пытается осмыслить вопрос: можно ли объяснить оппозицию между двумя родами влечений в терминах полярности любви и ненависти. Пытаясь разглядеть превращения любви в ненависть и наоборот, Фрейд постулирует вмешательство: «способной к смещению энергии, которая сама по себе индифферентная, и которая может примкнуть к качественно-дифференцированному эротическому или разрушительному импульсу и его повысить». Ее источник - запас нарциссического либидо, присутствующий в десексуализированном Эросе. Фрейд рассматривает взаимоотношений инстанций Я, Оно и Сверх-Я и сравнивает Я со слугой трех господ: Я угрожают три опасности: одна происходит из внешнего мира, вторая из либидо Оно и третья - со стороны Сверх-Я. «Оно», считает Фрейд, не обладает средствами доказать «Я» любовь или ненависть. «Оно не может выразить, чего хочет; оно не выработало единой воли. В нем борются Эрос и влечение смерти». Таким образом, Сверх-Я оказывается той инстанцией, которая отражает любовь или ненависть к «Я».
Мелани Кляйн. Вина, репарация и идентификация
Представитель психоанализа, М. Кляйн истоки всей психической жизни взрослого человека усматривает в детском развитии, начиная с раннего младенческого возраста. Соответственно этому, анализируя в работе «Любовь, вина и репарация» отношения взрослых индивидов, М. Кляйн постоянно ссылается на опыт ранних объектных отношений младенца. Ранние объектные отношения определяют выбор, успешность и/или трудности всех последующих отношений. М. Кляйн показала, что агрессивные чувства (ненависть, ревность, зависть), направленные на объект, крайне неприятны для самого субъекта. Человек стремится преодолеть свои деструктивные побуждения ради другого чувства - любви. Понимание любви как человеческой эмоции, согласно М. Кляйн, невозможно без включения в психическую жизнь агрессии. Наряду с любовью, у младенца имеется еще один врожденный импульс – ненависть. Любовь и ненависть – две фундаментальные одинаково всемогущие силы. С агрессивными импульсами и фантазиями, виной и страхом смерти тесно связаны сексуальные желания. Уже у младенца оба исходных импульса проявляются в объектных отношениях с материнской грудью как первым частичным объектом. Первичные импульсы любви и ненависти имеют большое развивающее значение для психики. С восприятием матери как целостного объекта трансформируются его любовь и ненависть. Собственный садизм (фантазии все также слиты с реальностью) становится непереносим из-за то, что он сам уничтожает объект своей любви, причиняет ему огромное зло. Во-первых, возникает страх утратить любимый объект. Ребенок в своих всемогущих фантазиях стремится возместить «нанесенный ущерб», восстановить объект. Возникает потребность заботиться, оберегать. Наряду с фантазийными ребенок научается проявлять реальные любовь и заботу. Это и есть, по М. Кляйн, феномен репарации. Именно он имеет огромное значение для психического развития, развивается способность наблюдать другого человека, сострадать его переживаниям, воспринимая его как отдельную личность.
Вина, особенно по отношению к тем, кого человек любит, является очень тягостным, болезненным чувством, поэтому она вытесняется в бессознательные структуры. Примерами проявления бессознательного чувства вины могут быть: недовольство собой без достаточных к тому оснований (комплекс неполноценности); подозрительность в неуважении со стороны некоторых людей; чрезмерная потребность в признательности и подтверждении своей хорошести от других людей; сомнения в своей способности любить, однако страх и вина играют положительную роль как в цепочке «ненависть-любовь», так и в процессе репарации. Вина за собственные деструктивные побуждения сопряжена с ответственностью, желанием заботиться, основанной на понимании неправильности причинения вреда другому человеку. Вина в этом понимании становится компонентом любви.
Помимо вины М. Кляйн находит в процессе репарации еще один важный феномен - идентификацию - умение ставить себя на место другого человека, понимать его интересы, переживания, потребности. Идентифицируя себя с объектом любви, субъект играет роль хорошего родителя, ведя себя так, как заботливая мать вела себя по отношению к нему самому в реальности или в фантазиях. Одновременно субъект играет роль хорошего ребенка, испытывающего благодарность в ответ на заботу; это дает ему удовлетворение от своей хорошести, ощущение безопасности и спокойствия. Рассуждения М. Кляйн о счастливых любовных отношениях представляются очень актуальными в условиях современной дестабилизации семьи и брака, роста числа разводов, повышения уровня супружеской конфликтности, большого числа людей, неудовлетворенных браком. Несомненно, во все времена, в т. ч. и во времена творчества М. Кляйн, существовали эмоциональные проблемы, непонимание и отчуждение между партнерами. Повышение значимости межличностных аспектов супружеских отношений как приоритетного смысла брака (в противовес традиционному экономическому смыслу) актуализирует интерес современных исследователей к эмоциональным аспектам взаимоотношений любовных партнеров. Согласно М. Кляйн, счастливые любовные отношения в браке включают глубокую привязанность, способность к взаимным жертвам, умение разделять радостные и горестные переживания, а также сексуальное наслаждение. Компоненты счастливых любовных отношений для женщины: а) материнские переживания по отношению к мужу как к своему ребенку; б) детское переживания к мужу как отцовской фигуре – восхищение им, ожидание защиты. Важна успешная репарация деструктивных импульсов по отношению к гениталиям отца (фантазии исцелительной природы отцовских гениталий связаны с развитием сексуальности, преодолением страха и вины садистических желаний). Детская репарация по отношению к матери позволяет взрослой женщине без вины занимать место рядом с мужем. На эмоциональность и сексуальность мужчины влияет репарация садистических фантазий о причинение боли и разрушения матери с помощью пениса; репарация побуждений уничтожить отца-соперника в обладании матерью, которые вызывают страх деструкции собственного пениса. Счастливые сексуальные отношения для мужчины предоставляют ему доказательство хорошести своего пениса; удовлетворенность повышается за счет удовлетворения желания делать для своей жены то, что отец делал для матери. Если жена разделяет, уважает, понимает интересы мужа, восхищается ими, это повышает его творческую реализацию, дает ощущение того, что он стал взрослым, равным отцу. В счастливых любовных отношениях осуществляется не до конца преодоленная эдипальная бессознательная фантазия стать равными родителям, занять их место. Такая фантазия и у взрослых индивидов бессознательно активна. Как отмечает М. Кляйн, в удовлетворяющих любовных и сексуальных отношениях партнеры переживают счастливое воссоздание их ранней жизни в семье, только еще более совершенные, поскольку они лишены чувства вины. Успешное преодоление вины за садистические фантазии по отношению к родителям - важное условие для последующего обретения гармонии в своих партнерских отношениях. Только тогда возможно перенесение инфантильных желаний на другие объекты. Взрослые взаимоотношения любящих друг друга партнеров всегда содержат новые элементы, которые не встречались в родительской семье.